Зачем и кому нужны резиденции? Этой теме посвящена значительная часть нашего канала, и сегодня предлагаем почитать мнение международного эксперта. Читайте аналитический обзор 9 главы книги Андреа Глаузер «Предписанное преодоление границ, культурная политика, арт-резиденции и практика искусства», которую мы уже не один раз цитировали – здесь и вот тут.
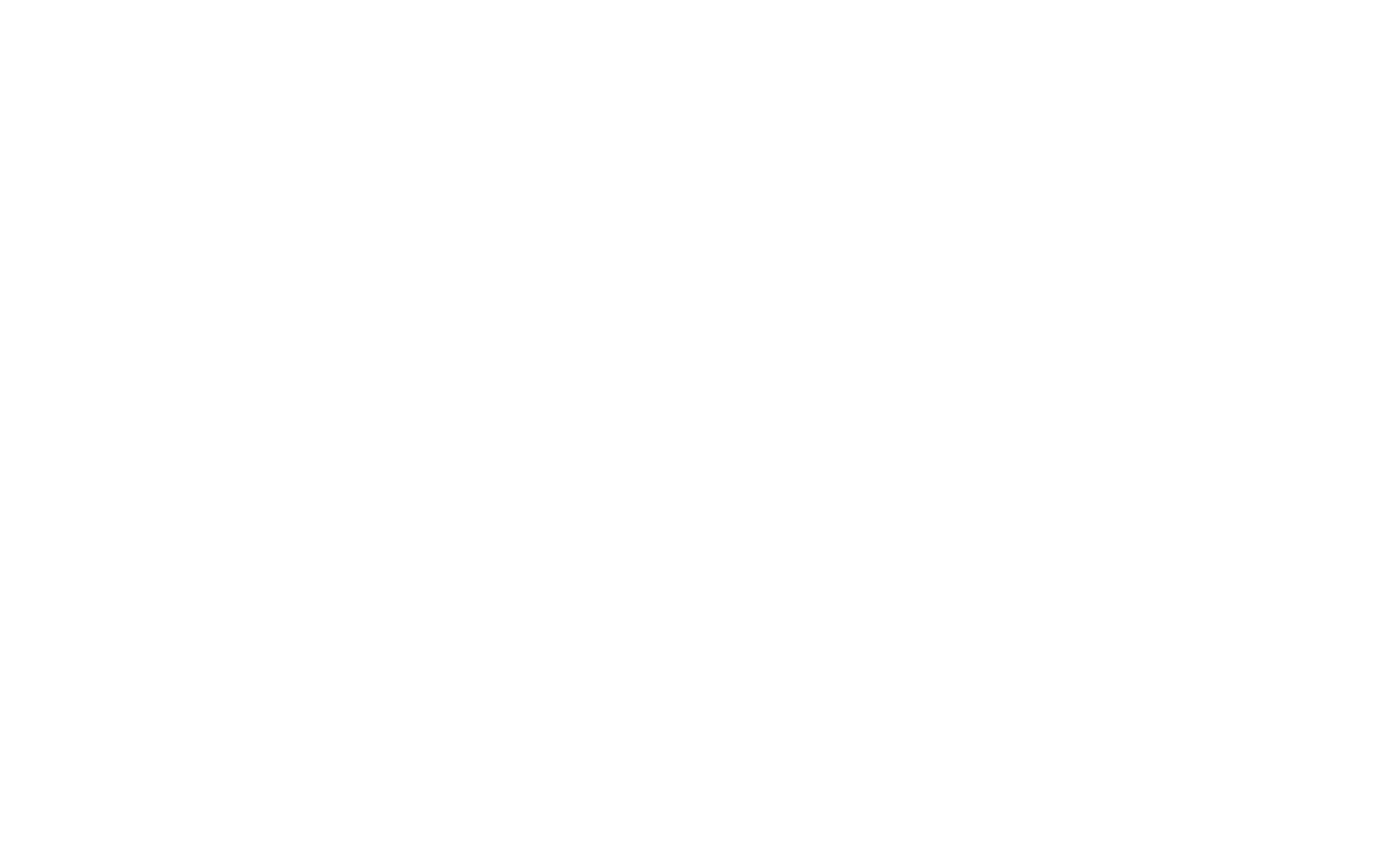
Об идеальных резиденциях и способах их найти
О воспитании мобильного космополитического субъекта
Ландшафты программ «Artist-in-Residence», сложившиеся в послевоенный период, характеризуются одновременным существованием различных концепций и «не могут быть сведены к единому знаменателю». Эта неоднородность, однако, отнюдь не означает аморфности, но подразумевает необходимость глубокой дифференциации. Анализ показывает, что художественные резиденции – это не просто инструмент поддержки искусства, а сложный социальный институт, выполняющий ключевую роль в конструировании субъекта современного художественного поля, производстве символического капитала и воспроизводстве его внутренних иерархий.
Центральной функцией резиденций является формирование специфического габитуса художника. В современном искусстве доминирует принятый профиль «мобильного космополитического профиля», образ «номада», который, по словам Ульфа Ханнерца, обладает личной автономией по отношению к своей культуре: «Он обладает ею, она не обладает им». Резиденции служат практическим тренажером для производства этого идеала, предлагая художникам, особенно на старте карьеры, опыт жизни и работы в незнакомом контексте. Через необходимость справляться с новыми ситуациями художники потенциально усваивают «рутинный способ справляться с новым» и обретают ту самую «определённую светскость», которая так ценится в поле.
Важнейшим механизмом работы резиденций является порождение нарративов. В отличие от получения премии, участие в резиденции практически всегда сопровождается необходимостью высказываться о своем опыте. «Резиденции, по-видимому, уполномочивают говорить», – отмечает автор. Художники становятся героями газетных портретов, участниками дискуссий и авторами отчётов. Эти нарративы функционируют как «генераторы биографии» в смысле Алоиза Хана. Они не просто отражают пережитый опыт, но и активно конструируют биографию художника, производя образ «много путешествовавшего» и, следовательно, космополитического субъекта. Примечательно, что этот механизм работает даже в случае «сбоя»: «В значительной степени независимо от того, что пережила художница во время пребывания за границей, это вливается многообразными способами в рассказ её собственной биографии». Таким образом, сам факт участия в резиденции, а не только позитивный опыт, становится ценным символическим активом.
Однако эта система воспроизводит и структурное неравенство. Доступ к ресурсоёмким резиденциям, особенно в художественных столицах, крайне неравномерен и зависит от уже накопленного социального капитала, места жительства художника и финансовых ресурсов. Пребывания в таких центрах являются «эффективным инструментом нетворкинга и повышения профессиональных шансов». Но даже резиденции за пределами классических столиц «тенденциозно подпитывают динамику неравенства», так как увеличивают шансы художника присвоить себе ценимый «кочевой габитус». В результате, художник, чья деятельность ограничивается локальной средой, имеет мало шансов быть замеченным и рискует быть навсегда закреплённым в статусе «репрезентанта локального контекста», что в поле, где высшей ценностью является «креативная индивидуальность», является успехом как минимум амбивалентным.
В итоге, программа «Artist-in-Residence» предстаёт не как нейтральная поддержка, а как мощный инструмент субъективации, который «усиливает социально-пространственную эксклюзивность художественного поля». Резиденции активно производят тот самый тип мобильного, космополитического художника, который соответствует глубоко нормативной концепции успеха в глобализированном арт-мире, одновременно предоставляя доступ к этому инструменту самоконструированиялишь тем, кто уже обладает определенными привилегиями или способен успешно вписаться в его логику.
Центральной функцией резиденций является формирование специфического габитуса художника. В современном искусстве доминирует принятый профиль «мобильного космополитического профиля», образ «номада», который, по словам Ульфа Ханнерца, обладает личной автономией по отношению к своей культуре: «Он обладает ею, она не обладает им». Резиденции служат практическим тренажером для производства этого идеала, предлагая художникам, особенно на старте карьеры, опыт жизни и работы в незнакомом контексте. Через необходимость справляться с новыми ситуациями художники потенциально усваивают «рутинный способ справляться с новым» и обретают ту самую «определённую светскость», которая так ценится в поле.
Важнейшим механизмом работы резиденций является порождение нарративов. В отличие от получения премии, участие в резиденции практически всегда сопровождается необходимостью высказываться о своем опыте. «Резиденции, по-видимому, уполномочивают говорить», – отмечает автор. Художники становятся героями газетных портретов, участниками дискуссий и авторами отчётов. Эти нарративы функционируют как «генераторы биографии» в смысле Алоиза Хана. Они не просто отражают пережитый опыт, но и активно конструируют биографию художника, производя образ «много путешествовавшего» и, следовательно, космополитического субъекта. Примечательно, что этот механизм работает даже в случае «сбоя»: «В значительной степени независимо от того, что пережила художница во время пребывания за границей, это вливается многообразными способами в рассказ её собственной биографии». Таким образом, сам факт участия в резиденции, а не только позитивный опыт, становится ценным символическим активом.
Однако эта система воспроизводит и структурное неравенство. Доступ к ресурсоёмким резиденциям, особенно в художественных столицах, крайне неравномерен и зависит от уже накопленного социального капитала, места жительства художника и финансовых ресурсов. Пребывания в таких центрах являются «эффективным инструментом нетворкинга и повышения профессиональных шансов». Но даже резиденции за пределами классических столиц «тенденциозно подпитывают динамику неравенства», так как увеличивают шансы художника присвоить себе ценимый «кочевой габитус». В результате, художник, чья деятельность ограничивается локальной средой, имеет мало шансов быть замеченным и рискует быть навсегда закреплённым в статусе «репрезентанта локального контекста», что в поле, где высшей ценностью является «креативная индивидуальность», является успехом как минимум амбивалентным.
В итоге, программа «Artist-in-Residence» предстаёт не как нейтральная поддержка, а как мощный инструмент субъективации, который «усиливает социально-пространственную эксклюзивность художественного поля». Резиденции активно производят тот самый тип мобильного, космополитического художника, который соответствует глубоко нормативной концепции успеха в глобализированном арт-мире, одновременно предоставляя доступ к этому инструменту самоконструированиялишь тем, кто уже обладает определенными привилегиями или способен успешно вписаться в его логику.
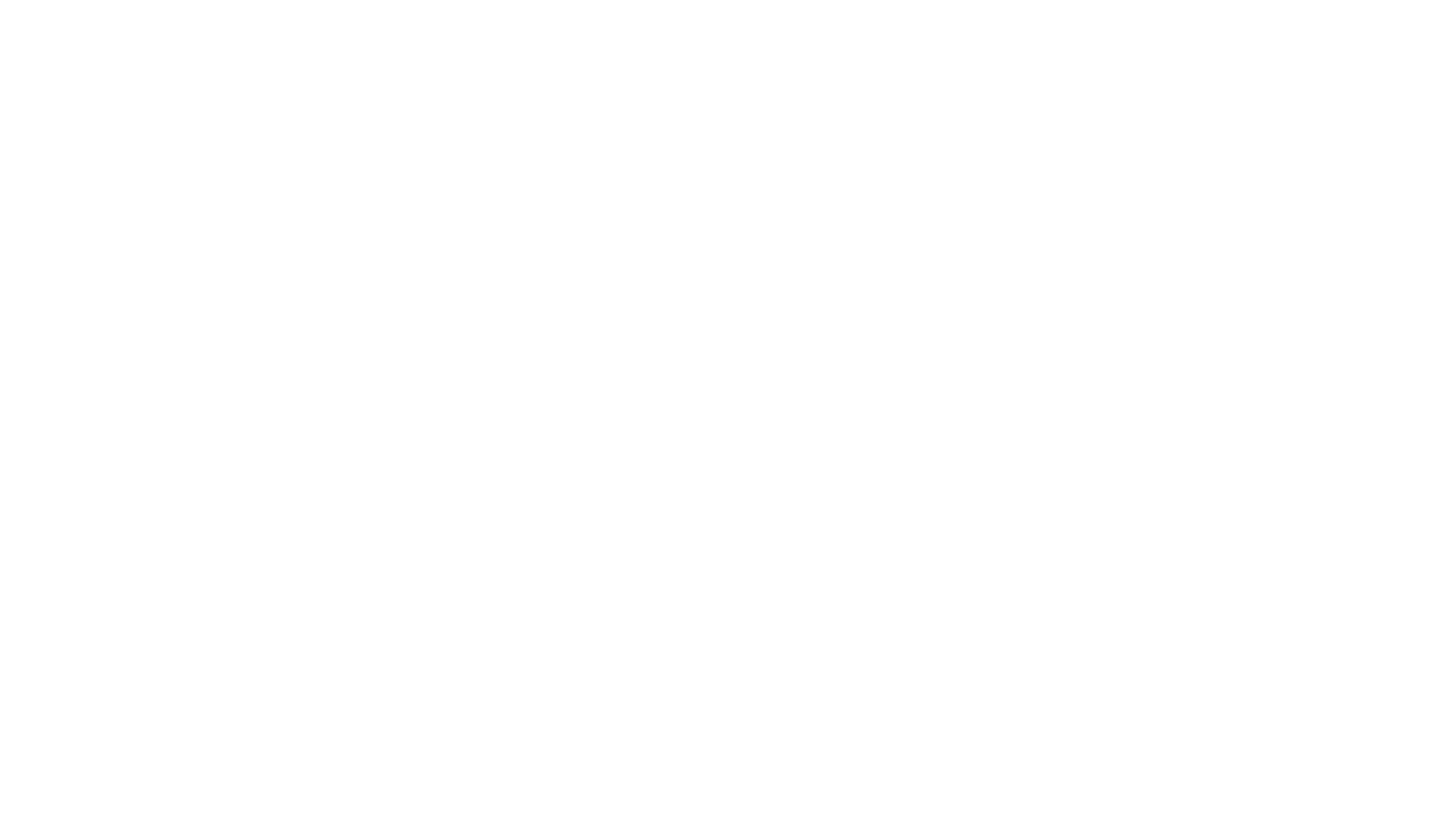
резиденция – это не просто предоставление пространства, а управляемый стресс, призванный вывести художника из зоны комфорта
Во второй части главы Поддержка культуры как креативная технология автор рассуждает об основе феномена художественных резиденций – концепции, впервые сформулированной Робертом Вальзером: смена мест как «своеобразная технология креативности». Его тезис о том, что «Новое окружение порождает в нас самих новизну», а выгода путешественника заключается «в непривычности, которую он приобретает без усилий», стал ключевым элементом в интерпретации пребывания на чужбине. В эпоху, когда креативность возведена в ранг общесоциального морального императива, инвестиции в художественный потенциал через резиденции становятся чрезвычайно почётными.
Этот подход, делающий ставку на самодостаточность художников, формирует «предпринимательское Я», для которого активности по нетворкингу, самомаркетингу и «тренировке креативности» становятся центральными. Стимулирующий импульс основан на смене контекста, которая связывает территориальное перемещение с шансами на инновацию. Используемая техника стремится удерживать художников в статусе чужака, в состоянии «просчитанного кризиса», как точно охарактеризовал один из художников, назвав резиденцию «нарушением». Это нарушение привычного ритма мысли, по замыслу, должно провоцировать креативность. Другой художник отмечает позитивный эффект давления обстоятельств, когда тебя «буквально забрасывают в ситуацию, которую ты на самом деле не выбирал». Таким образом, резиденция – это не просто предоставление пространства, а управляемый стресс, призванный вывести художника из зоны комфорта.
Однако на практике эта модель сталкивается с целым рядом противоречий и структурных проблем. Критика инфраструктуры резиденций указывает на их двойственность: «то, что может хорошо смотреться в резюме, может мешать продолжению собственных проектов», если на месте нет необходимого оборудования или художник оказывается далеко от партнёров. Идеальная фаза интенсивной работы рискует превратиться в «вынужденный перерыв». Существует и более глубокая проблема: в условиях структурной бедности художественной среды многие художники вынуждены соглашаться на неидеальные резиденции не столько из-за их символического капитала, сколько из-за острой нужды в экономических ресурсах, тем самым позволяя себя «подкупать».
Парадоксальным образом, именно эти неудобства – «пыль, холод или удалённость студии» – иногда провоцируют продуктивный вызов. Это создает едва ли разрешимую дилемму для организаторов и художников: «где заканчиваются продуктивные нарушения, а где начинаются парализующие?» Данная неопределённость позволяет «делать из необходимости добродетель», оправдывая недостатки резиденций их потенциально стимулирующим эффектом, тем более что художники, чувствуя себя обязанными, «не имеют права жаловаться» и редко формулируют конкретную критику.
Жёсткие временные рамки резиденций (несколько месяцев, до года) заставляют художников подчинять свое творчество «изощрённому временному контролю». Чтобы резиденция не привела к параличу деятельности, они вынуждены быстро адаптировать свою практику к местным условиям, что зачастую ведёт к распространению работ с поверхностными отсылками к месту. При этом «Artist-in-Residence» остается прежде всего гостем, которого редко хватает для завязывания долгосрочных контактов и глубокого погружения в местный контекст.
В итоге, пространственный вопрос в резиденциях оказывается банальным и сложным одновременно. С одной стороны, существуют «профессиональные» студии – светлые, удобные и расположенные в арт-столицах, которые идеально соответствуют императивам «предпринимательского Я». С другой – сохраняется убеждение, что «художник есть нечто большее – должен быть больше – чем просто специалист», что оправдывает существование резиденций в нетипичных местах, вроде научных лабораторий или удалённых локаций. Таким образом, контуры студийного пространства – это не просто технический вопрос, а проблема, в которую «вопросы образа художника оказываются вовлечёнными, по сути, неизбежно», отражая постоянное напряжение между комфортом и креативным кризисом, между эффективностью и художественным поиском.
В заключительной части Инструментарий для прошлого – рефлексирующая резиденция анализ института арт-резиденций выявляет фундаментальный раскол в их восприятии. Культурные администраторы апеллируют к «традиции» для легитимации системы, тогда как художники относятся к исторически сложившейся практике с критической дистанцией, видя в ней порой «устаревший хлам». Этот конфликт простирается глубже поверхностных оценок и упирается в проблему недостаточной рефлексии самих условий художественного производства.
Ключевая проблема – «персонализм» художественного поля, где физическое присутствие художника считается самоценным, а инструментарий резиденций редко подвергается глубокому переосмыслению. Это приводит к парадоксу: миссия «расширения горизонтов» рискует стать невольной пародией, если не анализировать институциональные рамки, её порождающие. Опираясь на Вальтера Беньямина и Хэла Фостера, автор подчеркивает необходимость работы не только с продуктами искусства, но и с самими средствами производства. Без этого резидентские программы могут невольно воспроизводить стереотипы и упрощённо «опространствливать» сложные социальные и политические контексты, о чем предупреждал еще Бурдье:
«Если здесь [...] хочешь отстраниться от расхожих представлений и повседневных дискурсов, то совершенно недостаточно, как иногда можно было бы подумать, просто один раз посмотреть на всё это «вблизи». Без сомнения, эмпиристская иллюзия навязывается там особенно настойчиво, где прямая конфронтация с реальностью [...] не может проходить совсем уж без трудностей и/или рисков и должна быть сначала заслужена».
В условиях, когда арт-поле демонстрирует удивительную способность ассимилировать и нейтрализовать любую критику, превращая её в классический художественный продукт, от современного художника требуется не просто участие в системе резиденций, а их постоянное концептуальное опережение и рефлексивное осмысление как культурно-политического инструмента.
Фрагмент завершается выводом о необходимости художникам «поспевать» за способностью арт-системы ассимилировать критику, что ставит вопрос о возможности подлинно критической художественной практики в современных условиях.
Этот подход, делающий ставку на самодостаточность художников, формирует «предпринимательское Я», для которого активности по нетворкингу, самомаркетингу и «тренировке креативности» становятся центральными. Стимулирующий импульс основан на смене контекста, которая связывает территориальное перемещение с шансами на инновацию. Используемая техника стремится удерживать художников в статусе чужака, в состоянии «просчитанного кризиса», как точно охарактеризовал один из художников, назвав резиденцию «нарушением». Это нарушение привычного ритма мысли, по замыслу, должно провоцировать креативность. Другой художник отмечает позитивный эффект давления обстоятельств, когда тебя «буквально забрасывают в ситуацию, которую ты на самом деле не выбирал». Таким образом, резиденция – это не просто предоставление пространства, а управляемый стресс, призванный вывести художника из зоны комфорта.
Однако на практике эта модель сталкивается с целым рядом противоречий и структурных проблем. Критика инфраструктуры резиденций указывает на их двойственность: «то, что может хорошо смотреться в резюме, может мешать продолжению собственных проектов», если на месте нет необходимого оборудования или художник оказывается далеко от партнёров. Идеальная фаза интенсивной работы рискует превратиться в «вынужденный перерыв». Существует и более глубокая проблема: в условиях структурной бедности художественной среды многие художники вынуждены соглашаться на неидеальные резиденции не столько из-за их символического капитала, сколько из-за острой нужды в экономических ресурсах, тем самым позволяя себя «подкупать».
Парадоксальным образом, именно эти неудобства – «пыль, холод или удалённость студии» – иногда провоцируют продуктивный вызов. Это создает едва ли разрешимую дилемму для организаторов и художников: «где заканчиваются продуктивные нарушения, а где начинаются парализующие?» Данная неопределённость позволяет «делать из необходимости добродетель», оправдывая недостатки резиденций их потенциально стимулирующим эффектом, тем более что художники, чувствуя себя обязанными, «не имеют права жаловаться» и редко формулируют конкретную критику.
Жёсткие временные рамки резиденций (несколько месяцев, до года) заставляют художников подчинять свое творчество «изощрённому временному контролю». Чтобы резиденция не привела к параличу деятельности, они вынуждены быстро адаптировать свою практику к местным условиям, что зачастую ведёт к распространению работ с поверхностными отсылками к месту. При этом «Artist-in-Residence» остается прежде всего гостем, которого редко хватает для завязывания долгосрочных контактов и глубокого погружения в местный контекст.
В итоге, пространственный вопрос в резиденциях оказывается банальным и сложным одновременно. С одной стороны, существуют «профессиональные» студии – светлые, удобные и расположенные в арт-столицах, которые идеально соответствуют императивам «предпринимательского Я». С другой – сохраняется убеждение, что «художник есть нечто большее – должен быть больше – чем просто специалист», что оправдывает существование резиденций в нетипичных местах, вроде научных лабораторий или удалённых локаций. Таким образом, контуры студийного пространства – это не просто технический вопрос, а проблема, в которую «вопросы образа художника оказываются вовлечёнными, по сути, неизбежно», отражая постоянное напряжение между комфортом и креативным кризисом, между эффективностью и художественным поиском.
В заключительной части Инструментарий для прошлого – рефлексирующая резиденция анализ института арт-резиденций выявляет фундаментальный раскол в их восприятии. Культурные администраторы апеллируют к «традиции» для легитимации системы, тогда как художники относятся к исторически сложившейся практике с критической дистанцией, видя в ней порой «устаревший хлам». Этот конфликт простирается глубже поверхностных оценок и упирается в проблему недостаточной рефлексии самих условий художественного производства.
Ключевая проблема – «персонализм» художественного поля, где физическое присутствие художника считается самоценным, а инструментарий резиденций редко подвергается глубокому переосмыслению. Это приводит к парадоксу: миссия «расширения горизонтов» рискует стать невольной пародией, если не анализировать институциональные рамки, её порождающие. Опираясь на Вальтера Беньямина и Хэла Фостера, автор подчеркивает необходимость работы не только с продуктами искусства, но и с самими средствами производства. Без этого резидентские программы могут невольно воспроизводить стереотипы и упрощённо «опространствливать» сложные социальные и политические контексты, о чем предупреждал еще Бурдье:
«Если здесь [...] хочешь отстраниться от расхожих представлений и повседневных дискурсов, то совершенно недостаточно, как иногда можно было бы подумать, просто один раз посмотреть на всё это «вблизи». Без сомнения, эмпиристская иллюзия навязывается там особенно настойчиво, где прямая конфронтация с реальностью [...] не может проходить совсем уж без трудностей и/или рисков и должна быть сначала заслужена».
В условиях, когда арт-поле демонстрирует удивительную способность ассимилировать и нейтрализовать любую критику, превращая её в классический художественный продукт, от современного художника требуется не просто участие в системе резиденций, а их постоянное концептуальное опережение и рефлексивное осмысление как культурно-политического инструмента.
Фрагмент завершается выводом о необходимости художникам «поспевать» за способностью арт-системы ассимилировать критику, что ставит вопрос о возможности подлинно критической художественной практики в современных условиях.